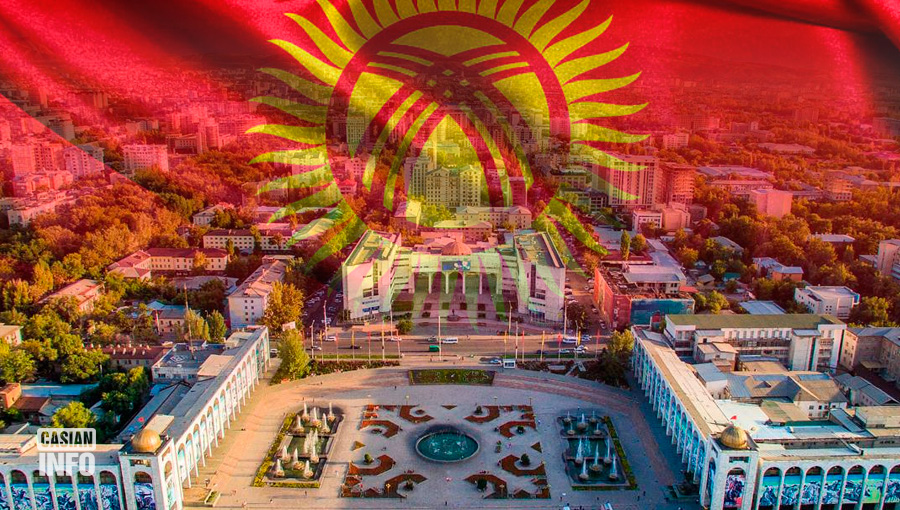Правительство обнародовало проект постановления, согласно которому Министерство культуры займется выявлением объектов нематериального этнокультурного достояния. Это подзаконный акт к закону о нематериальном этнокультурном достоянии, принятому ранее. Благодаря этому закону в стране должна появиться система выявления и сохранения традиций и обычаев российских народов. Будет ли работать этот закон, какого нематериального достояния он коснется и почему его сохранение может оказаться слишком сложным делом — в материале «Известий».
О чем говорится в законеПроектом постановления добавляются полномочия Министерству культуры — ему предлагается в том числе выявлять объекты нематериального этнокультурного достояния, вести федеральный реестр объектов нематериального этнокультурного достояния. Документ подготовили для реализации закона о нематериальном этнокультурном достоянии РФ, который был подписан президентом 20 октября.
Этот закон направлен на сохранение объектов нематериального этнокультурного достояния — проще говоря, традиций и культуры народов России. В законе достояние делится на три категории: федерального, регионального и муниципального значения.
Реестр объектов нематериального этнокультурного достояния должен стать главным источником информации обо всех традициях, обычаях и ремеслах страны. Объекты должны представлять историческую, культурную и научную ценность.
— Целью разработки закона было ввести в федеральное законодательство новую культурную сферу, тем самым признав ее, и закрепить ключевые принципы, основываясь на опыте регионов и экспертов, — пояснили «Известиям» в Минкульте. — Практическая значимость данного закона велика. Признание нематериального этнокультурного достояния в федеральном законодательстве, наделение полномочиями и правами всех уровней публичной власти даст огромный толчок к развитию данной сферы.
В министерстве называют очень важным элементом закона создание федерального реестра и «закрепление прав хранителей и носителей на государственную или муниципальную поддержку».
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Маргарита Лянге отмечает, что этот закон стал итогом огромнейшей работы, проведенной в этом году.
— У нас, несмотря на тяжелейшую обстановку, в этом году прошло очень много мероприятий, связанных с сохранением нематериального культурного наследия народов России, такого внимания к этой части нашей культуры еще не было, — рассказала она «Известиям». — Это очень стройный документ, прописано, какие органы власти за что отвечают, огромная роль отведена инициативным гражданам, некоммерческим структурам и национально-культурным организациям.
Что такое объекты этнокультурного достоянияК объектам нематериального этнокультурного достояния, пояснили в Министерстве культуры, относится устное народное творчество — сказки, былины, а также традиции, обычаи, уклады жизни, уникальные знания и навыки этнических групп страны, которые передаются из поколения в поколение.
— Например, традиции музицирования на варгане, технология изготовления глиняной игрушки, искусство художественного свиста и так далее, — отметили в ведомстве. — В федеральный реестр будут вноситься объекты, которые имеют особое значение для РФ. Отбор будет осуществляться экспертным советом, но первостепенные характеристики будут установлены постановлением правительства РФ, которое сейчас находится в разработке у министерства.
Внесение в реестр, считают в Минкульте, поспособствует сохранению объекта и его популяризации, тем более что это будет не просто информационная справка с наименованием и местом бытования, но и описание истории происхождения, нынешнего состояния объекта вместе с фотографиями и видео.
— Интересная для восприятия информация поспособствует более широкому распространению такого нематериального достояния или его возрождению, в случае если объект находится на грани исчезновения, — пояснили в министерстве. — Также это будет отличная площадка для изучения истории и традиций народов России.
Не все согласились с термином «объекты этнокультурного достояния». Так, заведующий отделом проектной деятельности Центра историко-культурного наследия «Касум ёх» в сельском поселении Казым (ХМАО), автор нескольких социокультурных проектов, связанных с народом ханты, Марина Кабакова замечает, что этот термин новый и весьма размытый. По ее словам, на международном уровне это определяется как «историко-культурное наследие».
Однако председатель комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрей Максимов замечает, что термин «этнокультурное» не делает подход к нематериальному наследию узким.
— На самом деле при ближайшем рассмотрении мы понимаем, что любая творческая традиция как раз проявляет в себе этничность того или иного народа, — говорит он.
И приводит в пример персонажа из «Ночного дозора» Сергея Лукьяненко — Гесера, образ которого взят из устного эпоса, в частности, бурятского народа — богатыря, которому в Улан-Удэ даже установили памятник. Или населенные пункты с необычными для уральской степи названиями — Париж, Берлин, Лейпциг.
— Парадоксально, но именно эти названия хранят в себе этничность казачьих сообществ, которые здесь жили и развивали эту территорию, — говорит Максимов. — Дело в том, что именно казачьи полки, которые в 1812 году дошли до Парижа, вернувшись домой, стали инициаторами такого оригинального наименования для своих родных казачьих станиц.
Как уже работают с этнокультурным наследиемПредседатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская подчеркивает, что закон очень важен — он впервые урегулировал отношения в области выявления, изучения, использования, актуализации, сохранения и популяризации нематериального этнокультурного достояния РФ, определил понятийный аппарат в этой области, установил права и полномочия органов власти, ввел определения «хранителей» и «носителей».
— Что касается законодательства субъектов Российской Федерации в области нематериального этнокультурного достояния, то говорить о большом количестве региональных законов не приходится — таких законов принято только 11, — рассказала она «Известиям».
Ямпольская подчеркивает, что закон разрабатывался на основе уже имеющегося опыта выявления и сохранения объектов нематериального этнокультурного достояния, в частности, на основании Концепции сохранения и развития нематериального культурного наследия народов РФ на 2009–2015 годы Государственного российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова.
— Поэтому условия для выявления и сохранения уже созданы, но в настоящее время, в связи с принятием федерального закона, происходит модернизация и совершенствование системы, — подчеркивает депутат.
Доцент кафедры государственного управления и публичной политики ИОН РАНХиГС, координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики Александр Воротников замечает, что ранее законодательство, регулирующее сохранение нематериального культурного наследия, появлялось в регионах России, где проживают коренные малочисленные народы.
— Например, в Республике Саха (Якутия) с 2006 года действует закон «О защите и сохранении эпического наследия коренных народов Республики Саха (Якутия)», — рассказал он «Известиям». — И, кстати, в 2005 году якутский эпос олонхо признан шедевром устного нематериального наследия человечества. Это была достаточно кропотливая работа научного сообщества совместно с руководством республики.
Законы есть в ХМАО, ЯНАО и ряде других регионов, но принятие федерального закона, говорит он, придает проблеме сохранения и развития нематериального культурного наследия «совершенно новый, федеральный уровень».
— Регионы просили об этом федеральный центр давно, — говорит Воротников. — Многие задачи, связанные с сохранением нематериального культурного наследия, требуют средств, а наличие федерального закона позволяет финансировать региональные мероприятия и проекты.
Андрей Максимов замечает, что сама проблема сохранения нематериального культурного наследия — общемировая, и даже у ЮНЕСКО помимо списка материального культурного наследия есть менее известный список нематериального культурного наследия.
— К сожалению, Россия пока не присоединилась к международным документам, которые регламентируют участие в этом проекте, поэтому в огромном мировом списке есть лишь якутский эпос и наследие старообрядцев Забайкалья, — заметил он. — Однако в России уже на протяжении длительного времени делается попытка составить свой реестр объектов нематериального наследия, выработать меры по их охране.
Максимов рассказывает также об уже существующем проекте «Живое наследие»: сейчас на этой платформе собраны тысячи локальных региональных и национальных культурных брендов, которые прошли экспертный отбор.
Как сохранять нематериальное наследиеМинкульт подчеркивает, что сейчас задача ведомства состоит в том, чтобы выявить, изучить и рассказать о нем, поспособствовав широкому распространению информации. Кроме того, сейчас активно прорабатывается вопрос поддержки хранителей и носителей нематериального этнокультурного достояния и развития новой сферы нематериального этнокультурного достояния. Ключевые принципы будут сформированы в отраслевой концепции, сообщили «Известиям» в министерстве.
Александр Воротников, говоря о том, как сохранять объекты нематериального наследия, снова приводит в пример Якутию, где выпущен указ «О единой системе домов Олонхо Республики Саха (Якутия) и мерах государственной поддержки олонхосутов, запевал осуохая и кузнецов — носителей традиционного культурного наследия».
— На поддержку «домов олонхо» в улусах (районах Якутии) из бюджета республики каждый год будет направляться не менее 50 млн рублей, — рассказал Воротников. — Учреждаются целевые гранты — стипендии семи лучшим олонхосутам, семи лучшим запевалам осуохая и семи лучшим кузнецам в размере 30 тыс. рублей ежемесячно. Систему «домов олонхо» объединяют под эгидой строящегося Арктического центра эпоса и искусств. Это яркий пример сохранения нематериального наследия.
По его словам, усилит процесс выявления объектов нематериального наследия и создание профильного реестра. Отдельные методики выявления таких объектов, говорит он, уже существуют, но если брать Россию в целом, то единой системы выявления таких объектов нет.
— Принятие нового закона позволит ее создать, — пояснил Воротников. — Работа должна стать системной, а не держаться на плечах отдельных энтузиастов. На мой взгляд, работа должна поддерживаться и производственными компаниями, действующими на территориях проживания коренных малочисленных народов. Такая деятельность компаний в рамках их ESG-трансформации приведет к росту фактора S, связанного с их социальной политикой и, соответственно, к росту их ESG-рейтинга.
Маргарита Лянге подчеркивает, что в законе прописана не только фиксация объектов нематериального этнокультурного достояния, но и их актуализация.
— Это слово «актуализация» больше всего греет мое сердце, потому что часто у нас всё заканчивается музеефикацией. А теперь мы не просто фиксируем, а на основе этого развиваем нашу этнокультурную самобытность, — говорит она.
Лянге замечает, что к работе важно привлечь не только различные уровни власти и ученых, но и общественность, чтобы появилась прозрачность работы.
— Иначе в нематериальном этнокультурном наследии могут оказаться вещи, которые не имеют к этому никакого отношения, — и идея будет дискредитирована, — отмечает эксперт. — Важно широкое обсуждение: на площадках общественных палат регионов, советов в муниципалитетах, с привлечением активистов и других общественных структур.
Лянге объясняет, что имеет в виду, например, авторские сказки на основе эпоса, такие как истории о Золотой бабе, которые придуманы для туристов в качестве маркетингового хода. Запрещать подобные сказки, говорит она, не надо, но и защищать как достояние — тоже.
Как к закону отнеслись малые народыАвтор Telegram-канала «Коренной» (попросил не называть его имя), представитель малого народа с Ямала, который от традиционного образа жизни перешел к городскому и открыл свой бизнес, считает закон нужным, давно ожидаемым, но замечает, что документ всё же рамочный, оставляющий много пробелов, лазеек и неточностей.
— Ни конкретные меры поддержки государством этнокультурного наследия, ни формы финансирования, ни четкие основания, по которым заявитель может податься на внесение в реестр, пока не прописаны, — рассказал он «Известиям». — Возможно, всё впереди и стоит ожидать каких-то приложений к закону, разъяснений, но я пока в этом сомневаюсь.
По мнению эксперта, практика сохранения этнокультурного наследия в России страдает от нехватки научной экспертизы. Он считает, что надо увеличивать финансирование государством этнографических исследований, центров культуры и музеев в России, хотя в последнее время расходы скорее урезают. Кроме того, он призывает к большей прозрачности общественно-политических процессов, умению власти «слушать и опираться в своих решениях на общественное мнение».
Комментируя вопрос финансирования, Александр Воротников заметил, что секвестр бюджета неизбежен, так как появилось достаточно много новых расходных обязательств, но проблему эту можно решить при участии компаний и предприятий, действующих на территориях проживания коренных малочисленных народов. А Ямпольская, подчеркивая, что закон направлен не на малые народы, а на все народы РФ, добавила, что ко второму чтению проекта этого закона была внесена поправка о выделении 100 млн рублей ежегодно на гранты некоммерческим организациям для реализации творческих проектов в сфере народного искусства — ранее федеральных грантов любительским народным коллективам не было.
— Претендующие на грант коллективы будут участвовать в конкурсном отборе, по итогам которого решением специальной комиссии будут выделены гранты 15 коллективам, — рассказала депутат.
Марина Кабакова из ХМАО, однако, тоже сомневается, что новый закон поможет сохранить исчезающие объекты нематериального этнокультурного достояния.
— Под такой закон все сейчас кинутся писать проекты, чтобы получить финансирование, и это может привести к тому, что то, что мы собираем сейчас по крупицам, будет просто разрушаться, — опасается она. — Хорошо, если будет не так, чтобы закон помог, но пока там всё написано размыто, общими фразами.
Такие мысли у нее появляются из собственного опыта работы с проектами, созданными специально под гранты, когда национальные традиции становились разменной монетой для каких-то других целей.
«Правильно ли я всё делаю?»Но даже если закон будет помогать, сохранение нематериального культурного наследия, традиций и обычаев — дело очень непростое, тонкое. Марина Кабакова это ощутила на себе. Она — один из тех, благодаря кому традиции народа ханты действительно сохраняются, в том числе сложные ремесла, обряды, язык... В частности, она возродила праздник «Медвежьи игрища», и в недавно вышедшем киноальманахе «Люди дела» Фонда Тимченко одна из серий посвящена ей и этому празднику. Однако последние «Медвежьи игрища» в октябре она сознательно пропустила.
— Для меня игрища были — да и остаются — той духовной частью моей жизни, в которой заложены все правила жизни ханта, — рассказала она «Известиям». — Мне казалось, что, сохранив «Медвежьи игрища», мы сохраним народ. Мы активно взялись за это, мы проводили и школу игрищ, обучали ребят, до сих пор этот праздник проходит, но не могу сказать, что в полной мере мы это смогли возродить.
По ее словам, в «Медвежьих игрищах» основная роль — у мужчин, и есть достаточно тех, кто может петь на сакральном — не бытовом! — языке хантов, кто знает эти песни. Есть и определенный интерес, но в какой-то момент возникают неожиданные препятствия.
— Я работала с мужчиной, который когда узнал, что должен петь, с каждым днем как будто бы всё хмурее и хмурее становился, — рассказывает Кабакова. — Его тревожило, что он не может петь — не потому что не умеет. Ему стали сниться плохие сны, да еще и от умершего отца, хорошего исполнителя, он не успел получить разрешение на исполнение этих песен. И я вдруг подумала: а не делаем ли мы хуже тем, что вот так активно стали сохранять эти «Медвежьи игрища»? Правильно ли я всё делаю? В октябре игрища я пропустила как раз из-за этих сомнений.
При этом она подчеркивает важность этих «Медвежьих игрищ» для народа. Вспоминает: уже после съемок в фильме у нее спросили: этот праздник — популяризация культуры?
— Конечно, это не популяризация культуры. Это один из ресурсов сохранения культуры и традиций, — говорит Кабакова. — К сожалению, мы исчезаем, нас скоро не будет, и чтобы сохранить себя, я должна эти ресурсы находить. Когда мы теряем свою духовную культуру, мы теряем себя. У нас много случаев суицида — понятно, что причиной многих становится алкоголь, может, это и не связано с духовной культурой, но традиционное воспитание, наши традиции могли бы помочь.
Марина Кабакова подчеркивает: сохранение нематериального наследия — очень тонкий процесс, которому нельзя навредить, потому что даже внутри одной культуры много разных локальных особенностей.